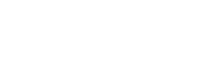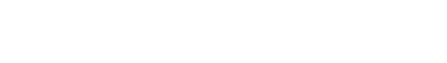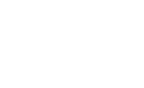Мой Владивостфак
Федор ДЕРКАЧ,
заместитель директора филиала ДВФУ в Хакодатэ
Дальневосточный федеральный университет празднует 50-летие непрерывного востоковедного образования в Приморском крае. Выпускники-ориенталисты с благодарностью вспоминают время учебы в вузе.
Когда я впервые приехал в закрытый город Владивосток (дело было в восемьдесят седьмом) первое, что пришло на ум, — это пойти на берег и попробовать морскую воду на вкус. Ну не верил я, что такое количество воды кто-то взял и совершенно бесплатно посолил. Читать — читал, а верить — не верил.
Воду попробовал, в университет поступил, друзьями обзавелся, вкусил все прелести огуречно-картофельной колхозной эпопеи (было тогда замечательное правило: не засчитывать поступление без отработки на полях Приморья), съездил напоследок домой… и вот уже начинается долгожданная учеба. Завтра! А сегодня — полночь, фонари, ливень и два тяжеленных чемодана. Одинокий подвыпивший прохожий у Покровского парка, перемежая речь веселыми матерными прибаутками, сочувственно поведал, как пройти на Державина, 15. Проклиная все на свете, забрался я на Орлиную сопку, пугливо озираясь, миновал старые гаражи, и вдруг — море огней в море воды! Залитая светом гавань, похожая на пасть огромного крокодила. Стою, рот раскрыл, чемоданы выронил, мокрый до нитки, в грязи по колено, а в голове: «Вот оно, счастье!»
Глупо, наверное, рассказывать о таких переживаниях в наше прагматичное время. Но с этого началось мое Востоковедение. И счастье, обнаруженное на верхней площадке тропы Хошимина, не улетучивалось все время учебы, что бы тогда ни происходило. Счастье было данностью, словно маленький теннисный мячик, который можно подбросить, повертеть в руках и сунуть в карман.
Востфак размещался тогда в здании на Уборевича, 25. Добротная «сталинка», на стенах тонны известки, доска почета и стенды по медицинской подготовке. Единственная приличная дверь на одном из этажей была обшита дерматином и имела цифровой (!) замок. По слухам, за нею располагалось отделение «конторы глубокого бурения» (еще бы, как-никак — идеологический факультет, без характеристики от горкома комсомола можно было даже не соваться). Зато в аудиториях… в них на стенах висели изысканные каллиграфические работы легендарного Ким Енука, которого мы уже не застали, а знали только по студенческому фольклору. Цитаты из песен привести, увы, не могу по понятным причинам.
Занимались мы по двухтомнику А. Головнина. По тем временам это был учебник весьма приличный, хотя и не лишенный ошибок, к тому же довольно путаный во второй части. На первом курсе куратором нашей группы была Эльза Федоровна Федосеева, по прозвищу Хаяка (хаяку — яп. «быстрее») — замечательный и потрясающе интересный человек, из той старой гвардии, что видела времена восстановления востфака из праха. Именно от Эльзы Федоровны мы почерпнули сведения не только о японском языке, но и о той драматической судьбе, что постигла отечественную японистику в лихие годы.
Публика на востфаке училась разномастная и колоритная: были и свободные художники, и зубрилы-отличники, и комсомольские карьеристы. Кто и где сейчас — вопрос другой, пути господни, как известно, неисповедимы. Но, несмотря на разницу жизненных позиций, бросались в глаза и общие черты: во-первых, на восточные языки отбор был строгий, поэтому уровень способностей и общей эрудиции был у студентов, как минимум, выше среднего, во-вторых, глаза горели у всех. Поступали мы в то время, когда надежда попасть в Японию была довольно зыбкой. Основные квоты для стажировок в японских вузах оттягивал на себя МГУ. Поэтому учеба в Японии была, во многом, вопросом везения. Или связей. Естественно, что цеплялись за любую возможность. Надо отдать должное руководству факультета: оно старалось всегда предоставить своим студентам шанс для стажировки или работы в Японии после окончания, подчас напрямую используя свои личные контакты.
Потом была армия, пришлось вернуться на первый курс. А затем наступили девяностые. Владивосток открыли, в него потянулись японские предприниматели и туристы. Время это было интересное, но суматошное. Пропала стабильность. Сказалось это и на преподавании. Хорошие, опытные педагоги стали чаще ездить в Японию на продолжительное время, их нередко приходилось замещать кадрами помоложе, которые отлично знали японский, да и людьми были хорошими, но в преподавании все же, скорее, случайными. Спасала интуристская практика, когда можно было отправиться переводчиком тургруппы через весь Союз. За это время удавалось и страну посмотреть от Камчатки до Прибалтики, и разговорный японский подучить.
Но несмотря ни на какие изменения и путаницу девяностых, учеба на восточном факультете была самым счастливым временем моей жизни, и я не знаю ни одного момента, о котором мог бы пожалеть. Наверное, поэтому, когда появился шанс преподавать в родном университете, в его японском филиале, долго не раздумывал. С тех пор вот уже 15 лет преподаю русский японцам. Написал пару больших пособий, в частности — начальный курс русской грамматики для японцев. Будучи японистом по образованию, не вижу для себя иной области работы, и уверен, что сегодня продвигать русский язык в Азии — задача наиважнейшая. За время существования филиала ДВФУ в Хакодатэ мы сумели создать в Японии учебное заведение с крепкой русской традицией, где студенты действительно учатся, а не просиживают часы, как это бывает в огромном количестве японских вузов. Ездят к нам и российские стажеры. Впрочем, работа филиала в Хакодатэ настолько многогранна, что заслуживает отдельной статьи.

|
| Заместитель директора филиала ДВФУ в Хакодатэ Федор Деркач с российскими стажерами |
С тех пор как вышло в самостоятельную жизнь мое поколение восточников, изменились и содержание, и принципы, и качество обучения. Ушли в прошлое ежегодные интуристовские практики, помогавшие студентам бегло болтать по-японски уже к третьему курсу, зато Япония стала доступнее и ближе. Каждый год в Хакодатском филиале ДВФУ, принимая стажеров с кафедры японоведения, обращаем внимание на то, что уровень знаний у дальневосточных студентов очень хороший. Возможно, мы в их возрасте говорили несколько свободнее, и все же их японский язык уже не такой кабинетный, как наш, и куда ближе к реальному. Причиной тому и новые учебники, и доступность всех видов сетевой информации, и богатые возможности для повышения квалификации преподавателей, и многочисленные шансы не только побывать в Японии, но и пожить в ней. В наше время сетевые технологии позволяют годами поддерживать связь со своими студентами, поэтому, когда читаешь их посты в соцсетях, невольно начинаешь завидовать, насколько легко они оперируют разговорными оборотами, чувствуют стиль японского языка. Конечно, нет уже былого академизма — изменилась японистика как таковая — но взамен пришла связь с реальной жизнью, где востребовано то, что необходимо. Японский язык перестал быть целью, стремление знать японскую культуру утратило былой, почти религиозный пиетет. И то и другое стало инструментом для чего-то большего. Это касается не только выпускников: опыт работы в Хакодатском филиале однозначно показывает, что для полноценной подготовки русистов в Стране восходящего солнца нужно знать специфические черты японского склада ума, особенности артикуляции, и главное, создавать оригинальные пособия, ориентированные именно на японцев, что без профессионального знания языка попросту немыслимо.