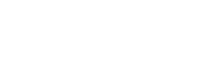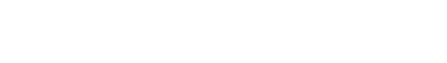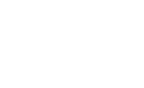Максим Жук: Скоро мы узнаем имена первых литературных гениев XXI века
Максим БАРЫЛЕНКО [текст],
Анастасия КОТЛЯРОВА [фото]
Владивосток, 25 декабря, газета «Остров.ру». В конце ноября в Москве прошло знаковое событие. Президент России Владимир Путин посетил «Российское литературное собрание», на котором собрались писатели, издатели, учителя, библиотекари — все те, кто имеет отношение к русской словесности.
Путин предложил объявить 2015-й годом литературы и подчеркнул, что «русский язык слишком велик, чтобы его традиции можно было разрушить». Затем отметил, что «есть задача сделать русский язык и русскую литературу фактором влияния в мире». Падение интереса к чтению в России он объяснил развитием цифровых технологий, а для исправления ситуации предложил изменить программы преподавания литературы и русского языка в старших классах школы и увеличить количество учебных часов.
Это событие и стало поводом для нашей встречи с кандидатом филологических наук, доцентом кафедры романо-германской филологии Школы региональных и международных исследований ДВФУ Максимом Жуком. С ним мы поговорили о таком необычном для президента интересе (ранее гуманитариям не уделяли столько внимания), положении современных российских писателей, мировых литературных тенденциях и, конечно, о его главном хобби — открытых лекциях по зарубежной литературе, из-за которых он стал весьма популярен в культурной среде Владивостока.

— Максим Иванович, как вы думаете, с чем связан подобный интерес у президента?
— Хочется верить, что власть наконец-то начала понимать важность гуманитарной составляющей образования. Однако у меня на этот счет большие сомнения. Конечно, хороший был пиар-ход с потомками Достоевского, Лермонтова. Путин сидел как бы во вневременном пространстве, осененный светом классики. Но нужно понимать, что к литературе они отношения не имеют и говорить за своих предков не могут, да и не дотягивают они до величия тех, кого они представляли.
Когда президент говорит о том, что нужно увеличивать количество часов на литературу, я этому, безусловно, рад. Но боюсь, что это все останется на уровне деклараций и имитации деятельности, как это часто бывает. Насколько я помню, у Института русского языка имени В.В. Виноградова пытались отнять несколько помещений как раз в Год русского языка (2007 г.). А буквально сейчас у Московского педагогического государственного университета отнимают здание, в котором находятся гуманитарные факультеты. Самих гуманитариев «депортируют» в корпус, расположенный в отдаленном районе.
Еще меня беспокоит формирование литературного канона, который будет изучаться в средней школе. Очень важно, произведения каких писателей туда войдут. Вполне возможно, что кому-то захочется убрать из программы неудобных левых авторов. И дети останутся без сатиры Салтыкова-Щедрина, гражданской лирики Некрасова и пьес Островского. В любом случае, интерес к гуманитарной сфере меня радует. Хорошо, что он хотя бы есть, но какие будут результаты и в каком идеологическом направлении все это будет двигаться — большой вопрос.
— Изменилась ли роль российского писателя с момента краха советской империи?
— Безусловно, писатели в настоящее время не играют роли властителей дум, как это было в дореволюционной России или в Советском Союзе. Сейчас в этом качестве выступают средства массовой информации, звезды шоу-бизнеса. Однако в последние несколько лет статус писателя стал меняться прямо на глазах. Современная политическая активность преодолевает социальную апатию нулевых годов, и писатель снова становится фигурой востребованной. Вспомните митинг на Болотной площади: на сцене выступают Дмитрий Быков, Борис Акунин, послушать которых приходят их читатели. На другом собрании народ собирает Эдуард Лимонов (впрочем, сложно сказать, кого в нем больше — писателя или политика). Люди начинают пытаться найти ответы не только в блогах и СМИ, но и в книгах современных авторов. Писатель служит голосом коллективного бессознательного, дает то глубинное знание и понимание жизни, которое человек не сможет найти в новостной ленте. И понемногу к авторам возвращается влияние. Это, конечно, не так монументально, но этот процесс идет.
— Влияет ли современная политическая ситуация в России на содержание книг?
— Да, современная русская литература стала апеллировать не к эстетическим литературным играм, как это было в текстах, например, раннего Владимира Сорокина, а к человеческому, социальному. В литературу возвращается политический дискурс. Современная русская литература очень социоцентрична и во многом симпатизирует левой идее. Это прослеживается в текстах Сергея Шаргунова, Захара Прилепина, Романа Сенчина, Дмитрия Быкова. Эти писатели анализируют наше настоящее и прошлое. Быков пишет о революции 1917 года и ее последствиях, Прилепин и Сенчин — о 1990-х и нулевых. Хотя есть у нас, конечно, и, в определенной степени, писатели буржуазные — Борис Акунин, например. Его тексты интересны, но это скорее эстетически приятное развлечение. Он умеет развлекать, интриговать читателя, польстить его эрудиции. Хотя, конечно, в этом нет ничего плохого.
— Есть ли у нас на Дальнем Востоке заметные для всей России авторы?
— В советское время Дальний Восток дал России и миру несколько интересных писателей. Можно вспомнить Александра Фадеева или Юрия Рытхэу. Что касается современных дальневосточных авторов, то на ум сразу приходят два имени. Первый — ваш коллега-журналист Василий Авченко. Очень приятно, что его документальный роман «Правый руль», написанный о нас и у нас, оказался понятным и близким читателям других регионов России. Другой интересный автор — Лора Белоиван. Ее даже иногда называют дальневосточным Маркесом. Может, это немного сильно сказано, но ее книги действительно хороши. Подобно тому, как Маркес создает художественный миф Латинской Америки, она делает примерно то же самое с маленьким приморским поселком Тавричанка в сборнике рассказов «Карбид и амброзия».
Она не только интересный писатель, но и очень благородный человек. Для нее писательский труд — занятие несколько второстепенное. Своим призванием она считает спасение тюленей. В поселке Тавричанка у нее своя станция, где она выхаживает раненых и больных морских животных.
— Но в целом большая часть современных русских писателей все-таки живет в двух столицах?
— Вовсе не обязательно. Теперь мы живем в едином информационном пространстве, и у писателей гораздо больше возможностей быть услышанными. Сейчас нет большой проблемы напечатать книгу или, тем более, поместить написанное в Интернет. Для молодых авторов есть хороший способ раскрутки через конкурсы. Существует целый ряд всероссийских литературных премий: «Национальный бестселлер», «Новая словесность» (НОС), «Большая книга», «Русский букер». Дело тут не в возможностях, которые предоставляет или не предоставляет среда, а в качестве материала. Например, современный российский писатель Алексей Иванов, написавший недавно экранизированный «Географ глобус пропил», живет в Перми, яркий и талантливый Захар Прилепин — в Нижнем Новгороде.
— Немного наивный вопрос, но все же: можно ли научиться быть писателем?
— Думаю, можно. В США, например, очень распространены курсы писательского мастерства, так называемые creative writing. На таких занятиях учат основам писательского ремесла: рассказывают о стиле, композиции, художественной логике повествования, учат, как писать эссе, рассказ, повесть, роман. И подобные курсы очень небесполезны. Например, в свое время их посещали, а потом и вели Джером Сэлинджер, Курт Воннегут и Джон Ирвинг. По-моему, для начинающего писателя непосредственное общение с профессионалами — хороший опыт и творческая практика.
У нас на всю Россию есть только два места, где учат подобной работе с текстом. Это Литературный институт имени А.М. Горького в Москве. И не так давно в Санкт-Петербурге была открыта «Литературная мастерская» — первые в России курсы creative writing, их ведут писатели Андрей Аствацатуров и Дмитрий Орехов. Пока сложно сказать, произведут ли они на свет русского Сэлинджера, но начинание, на мой взгляд, очень хорошее и важное. Как минимум, люди научатся грамотно формулировать свои мысли.
Но чаще всего даже самые известные российские авторы — самоучки. Нельзя сказать, что начинающему автору не у кого учиться. В его распоряжении — вся русская и зарубежная классика. Ведь, как правило, любой великий писатель — прежде всего великий читатель.
— А что происходит в мировой литературе?
— Сейчас активно пишут авторы, которые пришли в литературу в конце XX века: Джулиан Барнс, Джон Ирвинг, Мартин Эмис, Тибор Фишер. Они создают интересные, яркие романы. Но при этом среди современных писателей пока нет ярких прорывов, нет текстов, которые безоговорочно можно было бы назвать шедеврами. Нулевые и современность для зарубежной литературы — время ожидания шедевра. Во многом это справедливо и для России.
Но поскольку мы живем в мире, где существуют серьезные социальные, экономические и политические проблемы, то я спокоен за будущее литературы. Это как раз та почва, которая необходима для появления шедевров. Для того чтобы была великая литература, нужны великие потрясения. По-другому почему-то не получается. Думаю, что и в русской, и в зарубежной литературе скоро мы узнаем имена первых литературных гениев XXI века.
— Англосаксы снова будут в тренде?
— Отнюдь. Уже можно утверждать, что литература XXI века не будет европоцентричной. Этот процесс начался во второй половине XX века, когда были открыты национальные литературы, например Латинской Америки — Габриэль Гарсиа Маркес, Хулио Кортасар, Японии — Кобо Абэ, Кэндзабуро Оэ, а также Турции — Орхан Памук, Чехии — Милан Кундера, Сербии — Милорад Павич. И если взглянуть на имена последних лауреатов Нобелевской премии по литературе, то очевидно: европоцентризм давно преодолен. Последние нобелевские лауреаты по литературе Гао Синцзянь и Мо Янь — китайские писатели, Джон Кутзее и Надин Гордимер — из ЮАР, Марио Варгас Льоса — из Перу. Впереди нас ждет много интересного. Например, сейчас происходит взаимное обогащение западной и восточной литературных традиций, художественное переосмысление авангардного, модернистского и постмодернистского наследия.
— Какие темы сейчас актуальны?
— Насколько я могу судить, в зарубежной литературе 1990-х и нулевых главные темы — проблема подлинного существования, проблема личностной самоидентификации. Ни для кого не секрет, что современная массовая культура весьма агрессивна. Она нацелена на то, чтобы сформировать человека-потребителя, навязать ложные цели и ценности. Массовая коммерческая культура поглощает человеческое, индивидуальное. Об этом, например, пишет Кристиан Крахт в своем романе «Faserland». О том же рассуждает и Ирвин Уэлш. Изображая мир маргиналов — наркоманов, пьяниц, он показывает, что они выбирают такой образ жизни не из-за врожденной испорченности, а потому что мир погряз в потреблении — по другую сторону наркотических галлюцинаций люди заживо гниют перед телевизором, и на свете не осталось ничего подлинного.
То, что сейчас происходит в мировой литературе, сложно описать, так как это живой незавершенный процесс. Что было тревожного в постмодернистской картине мира, в постмодернистской философии и литературе? Это конец истории, соответственно, и конец искусства, когда невозможно создать какие-то новые формы, сформулировать новые идеи. Меня радует, что эта тенденция преодолевается. Идет возврат к классическим формам, традиционным ценностям, но уже на новом этапе их понимания. Это значит, что конец истории или отменяется, или откладывается, что уже неплохо.
Отчасти все эти процессы затронули и Россию, но у нас, как это часто бывает, свой особый путь. В силу известных обстоятельств выросшие в Советском Союзе писатели были вынуждены резко шагнуть из соцреализма в постмодерн. Русские писатели, близкие по мироощущению к постмодернизму, все равно не уходили от социальности, которая для постмодерна не характерна. Татьяна Толстая в романе «Кысь» и Виктор Пелевин в «Generation П» обращаются к тем же вопросам, которые терзали Гоголя, Салтыкова-Щедрина и Некрасова, но отвечают на них по-другому — в свете опыта ХХ века — и пользуются всеми возможностями современной повествовательной техники.
Удивительным образом сейчас снова становится актуальной советская классика. Выясняется, что это литература высокого качества, которая, что немаловажно, рассказывает об утраченных сейчас ценностях и смыслах. Поэтому современные литературоведы и писатели пытаются воскресить интерес к советской литературе. Новое прочтение получает «Разгром» Александра Фадеева, как советский неоромантизм воспринимается творчество Аркадия Гайдара, заново открывается и переиздается советский классик Леонид Леонов.
— Знаю, что многие завзятые читатели просто на дух не переносят электронные книги. Как вы относитесь к этому?
— Электронная книжка у меня есть. Ее я беру в поездку, когда не могу взять с собой собрание сочинений какого-нибудь автора. Часто это оказывается еще и дешевле — бумажные книги сейчас очень недешевые. Но есть, конечно, нюансы. Электронный ридер — это не книга, а устройство для чтения, нечто прагматическое, рациональное. С бумажной книгой отношения, как правило, более личные. Она хранит в себе больше человеческого тепла и больше следов прошлого. И это, думаю, важно.
Не могу сказать, что скучаю по книжному запаху, но все-таки читать бумажные книги мне приятнее. Мне важна не только информация, но и тактильные ощущения, физические усилия при чтении, ощущение реальности и индивидуальности бумажной книги. Думаю, они никуда не исчезнут, несмотря на современные технологии. Электронная и бумажная книга будут друг друга дополнять. Кстати, насколько я знаю, за последнее время продажи бумажных изданий даже начали снова понемногу расти.
— Поговорим о ваших нашумевших в культурном пространстве Владивостока открытых лекциях. Каждый раз вы собираете аншлаг и, насколько я могу судить, прекращать не собираетесь. Возможно, я повторюсь с этим вопросом, но все-таки: зачем вам все это?
— Я тоже иногда задаю себе этот вопрос (улыбается). В первую очередь, всегда приятно, когда тебя слушают не из прагматичного интереса (от меня не ждут ни зачетов, ни оценок), а просто так — для личного удовольствия или развития. И, конечно, мне, как любому человеку, приятно ощущать свою значимость, чувствовать себя профессионалом своего дела.
Во-вторых, это возможность для меня проговорить достаточно сложные идеи и самому лучше их понять. Для меня это такой способ саморазвития: ведь чтобы понимать какой-то предмет, нужно начать его преподавать. Эта информация должна в тебя врасти, стать органической частью твоего личного пространства.
В-третьих, из-за сокращения часов на литературу (если правительство их повысит, будет прекрасно), у меня часто нет возможности вычитывать то, что я хочу, в нужном объеме. Поэтому материал приходится сокращать. А на открытых лекциях я могу говорить об авторе столько, сколько мне нужно. Это так здорово отдать все, что ты знаешь полностью, не оглядываясь на время.
Воспитательный или просветительский эффект для меня не самый важный. Я совсем не стремлюсь своими лекциями изменить мир. Но вполне возможно, что благодаря им что-то происходит со слушателями. Как правило, самые серьезные вещи возникают тогда, когда занимаешься чем-то вроде бы для безделицы, как бы развлекая себя. Не знаю, с чем это связано. Например, Сервантес начинал писать «Дон Кихота» как пародию, а в итоге написал великий роман. Так что лекции для меня — просто радость и удовольствие, и если другие находят в них что-то для себя важное, то я за них искренне рад.
— Когда вам пришла в голову идея устраивать подобные открытые занятия?
— В 2006-м. Когда начались сокращения часов на литературу, я начал понимать, что не успеваю сказать все, что должен был. Сначала были просто факультативные семинары для моих студентов, а потом я стал писать для этих занятий лекции.
Первую открытую лекцию по творчеству Эрнеста Хемингуэя я провел в 2007 году. Помню, очень удивился тому, что пришло так много народу. Я был приятно удивлен, да и сейчас продолжаю удивляться. Конференц-зал Научной библиотеки, где я по средам веду свои лекции, насчитывает где-то 150 мест. Иногда сидений не хватает, приходится доставлять стулья.
Не думаю, что мои лекции являются совершенством. Я не достиг своего профессионального предела, к счастью, до этого мне еще далеко. У меня есть коллеги, которые разбираются гораздо лучше меня в тех же вопросах, поэтому мне есть к чему стремиться. И у меня и мысли не было, что мои лекции станут популярными, такой задачи я никогда не ставил. Получилось все само собой, и это меня даже иногда смущает. Один мой бывший студент иронизирует: «Вы, Максим Иванович, стали брендом». И действительно, иногда я почти физически ощущаю, что сформировавшееся обо мне представление существует уже отдельно от меня настоящего.
— Сколько вы еще намерены провести открытых лекций? Ведь наверняка это отнимает немало времени.
— До конца декабря я постараюсь закончить разговор о писателях первой половины двадцатого века. А со следующего года плавно перейду ко второй половине.
Не уверен, что в следующем учебном году смогу так роскошно располагать своим временем и читать лекции раз в неделю целыми циклами. Видимо, придется сделать перерыв. Чтобы что-то отдать, нужно что-то накопить.